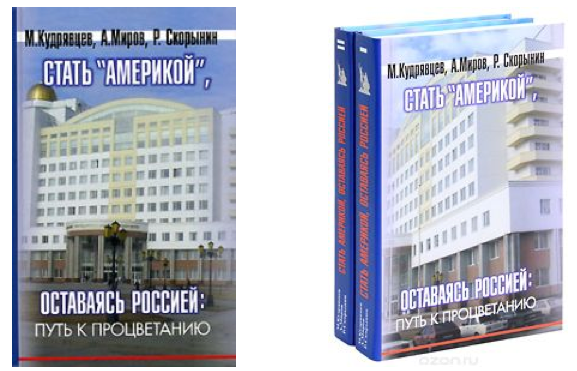
"СТАТЬ АМЕРИКОЙ", ОСТАВАЯСЬ РОССИЕЙ:
ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ
М.Кудрявцев, А.Миров и Р.Скорынин
|
|
||
Книга эта является, в первую очередь, политэкономическим исследованием, преследующим цель рассмотреть пути, на которых можно добиться экономического благополучия России. Нам неизбежно пришлось затронуть массу смежных с экономикой вопросов (истории, психологии и др.). Суженная прикладная задача позволила нам, с одной стороны, ограничиться анализом основных закономерностей экономики и общественной жизни, не углубляясь во многие детали, а с другой стороны, приблизить стиль изложения к публицистике, делая книгу понятной для неспециалистов в области экономики. Для этого пришлось дать своё, часто скорректированное, понимание ряда базовых терминов и понятий экономики и социологии. Мы адаптировали терминологию, исходя из потребностей изложения и суженных конечных целей исследования, а понятия изложили на пальцах, без привлечения стандартного в таких случаях математического аппарата. Многие сведения и представления, приведённые в данной работе, тоже предельно упрощены в целях экономии места. Специалистов насторожит то, что авторы зачастую вводят новую терминологию в противовес общепринятой - авторы были вынуждены пойти на это, чтобы обеспечить однозначное толкование используемых терминов. Стоит ли множить число терминов сверх необходимости? Встречный вопрос: а стоит ли придерживаться общепринятой терминологии, если "общепринятые" термины прибавочная стоимость", "культура" и прочие едва ли не каждый автор понимает по-своему, из-за чего пришлось бы тратить сотни страниц на "споры о словах"? Анатомируя современную экономику, пришлось определиться с оптимальным уровнем сложности модели, описывающей анализируемую систему. При сильном её упрощёнии многие важные механизмы будут просто не видны, а в сложной модели проведение анализа станет невозможным из-за деталей, заслоняющих главное. Выбирая уровень сложности, мы всё время ориентировались на конечную прикладную цель - сделать возможным гласное рассмотрение и оценку альтернативных путей дальнейшего развития России хотя бы на уровне первичного анализа этих альтернатив. Очень важно понять, что система экономики является очень сложной и не может быть полностью описана математическими уравнениями. Если такие описания и делаются, то только приблизительно, с нереальными допущениями о сущности человека и подгонкой его поведения под некую формулу. В этом плане мы безоговорочно поддерживаем подход австрийской экономической школы, согласно которому использование математического моделирования в политэкономии часто только мешает понять систему, особенно для неспециалистов. Поэтому в данной работе нет обилия цифр и графиков, моделей и их расчётов. * * * Для серьёзного политэкономического исследования, прежде всего, надо было понять суть человека, что позволит легче разбираться в его эволюции, в истории и дать рекомендации, прогнозируя последствия того или иного варианта действий на основе опыта прошлого. Мы должны знать законы и механизмы манипуляции человеком со стороны современного общества. Как в деталях работает экономика, во многом понятно. Однако до сих пор не сформулированы достаточно чётко механизмы образования прибыли, неизвестно влияние установленных с участием государства отношений собственности на развитие рынка, а также частных решений государства на экономику, особенно на международную торговлю. Неполно исследовано поведение человека на рынке и его реакция на рынок. Неясно, как можно, да и можно ли вообще применить современную экономическую теорию в России. Поэтому требуется обращение к её фундаментальным основам. В первой части книги изложены основные механизмы функционирования современной экономики и предпринята попытка уяснить, из чего рождаются богатство и блага человеческого общества. Подробное исследование закономерностей распределения богатства, свойственных современной экономике, позволит понять основные механизмы экономического роста и роль государства в поощрении этого роста. Первые главы этой части написаны для читателей-неспециалистов, интересующихся экономикой и политэкономией. Во второй части работы излагаются основы поведения человека, мотивы его поступков и исследуются причины, по которым возникает общество и государство, создаётся элита, из чего рождается идеология и социальные порядки, почему рождаются и гибнут общества. Здесь мы использовали сравнительно новый подход, рассматривая поведение человека через призму естественного отбора культурных блоков (идей и образов поведения), следуя теории выдающегося британского биолога Докинса. Обращение к этим темам связано с тем, что область исследования политэкономия зависит, прежде всего, от поведения человека на рынке, а поведение и задаётся главным образом культурологическими особенностями сообщества. Определяющее влияние на государственную политику в экономике имеет, прежде всего, властная элита. Мы пытаемся ответить на вопрос, почему любая элита вне Золотого Миллиарда закономерно подвергается компрадорскому перерождению. Поэтому в работе есть две плоскости рассмотрения - экономика в её наиболее общих закономерностях и социология элиты и общества в целом. В конце второй части, на основе понятых закономерностей поведения человека, | ||
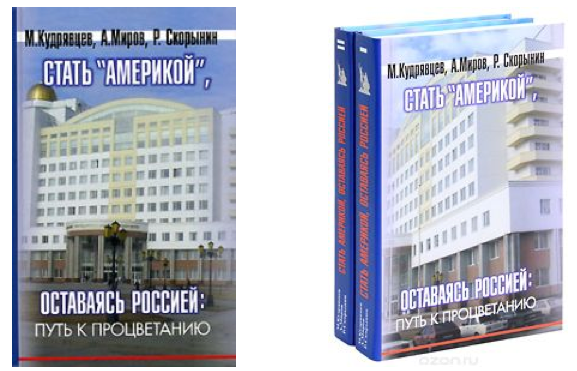
"СТАТЬ АМЕРИКОЙ", ОСТАВАЯСЬ РОССИЕЙ:
ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ
М.Кудрявцев, А.Миров и Р.Скорынин