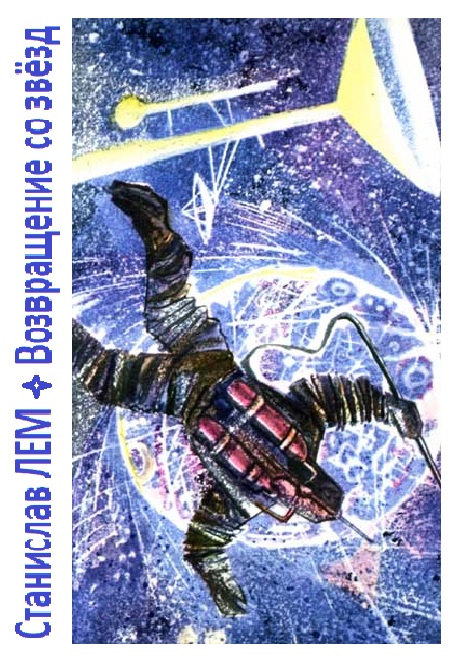Станислав Лем. Возвращение со звезд Перевод Е. Вайсброта, Р. Нудельмана. OCR: Alexander Sterkin I I Я не взял с собой ничего, даже плаща. Мне сказали, что это не нужно. Позволили оставить черный свитер: сойдет. А рубашку я отвоевал. Сказал, что буду отвыкать постепенно. В проходе, под нависшим днищем корабля, где мы стояли в толчее, Абс протянул мне руку и многозначительно улыбнулся. Только тише... Об этом я и сам помнил. Осторожно сжал его пальцы. Я был совершенно спокоен. Он хотел еще что-то сказать. Я избавил его от этого, отвернувшись, словно ничего не заметил, и поднялся по ступенькам внутрь корабля. Стюардесса повела меня вперед между рядами кресел. Я не хотел отдельного купе. Успели ли ее предупредить об этом? Кресло бесшумно раздвинулось. Она исправила спинку кресла, улыбнулась мне и отошла. Я сел. Подушки были бездонно мягкие, как и всюду. Спинки такие высокие, что я еле видел других пассажиров. К яркости женских нарядов я уже привык, но мужчин без всяких на то оснований все еще подозревал в маскараде и все еще питал робкую надежду, что увижу нормально одетого человека жалкий самообман. Посадка закончилась быстро, ни у кого не было багажа. Даже портфеля или свертка. У женщин тоже. Женщин было как будто больше. Передо мной сидели две мулатки в накидках из взъерошенных перьев попугая. Видно, такая теперь была птичья мода. Дальше какая-то супружеская пара с ребенком. После ярких селенофоров перрона и тоннелей, после невыносимо кричащей, фосфоресцирующей растительности на улицах свет вогнутого потолка казался еле тлеющим. Руки мне мешали, я пристроил их на коленях. Все уже сидели. Восемь рядов серых кресел, ветерок, несущий запах хвои, стихающие разговоры. Я ожидал предупреждения о старте, каких-нибудь сигналов, приказа пристегнуться ремнями ничего подобного, однако, не произошло. Какие-то неясные тени, словно силуэты бумажных птиц, поплыли назад по матовому потолку. "Что за чертовщина с этими птицами? беспомощно подумал я. Может, это что-нибудь означает?" Я словно одеревенел от постоянного старания не сделать чего-нибудь неподобающего. Так было уже четыре дня. С первой минуты. Я неизменно отставал от событий, и постоянные усилия понять какую-нибудь беседу или ситуацию превращали это напряжение в чувство, близкое к отчаянию. Я был убежден, что и остальные чувствуют то же самое, но мы не говорили об этом, даже наедине. Мы только подшучивали над собственной мощью, над тем избытком сил, который у нас сохранился: ведь и впрямь приходилось все время быть начеку. Поначалу, например, пытаясь встать, я подпрыгивал до потолка, а любая взятая в руки вещь казалась мне пустой, бумажной. Но управлять собственным телом я научился быстро. Здороваясь, уже никому не причинял боли своим рукопожатием. Это было просто. Только, к сожалению, не так важно. Слева от меня сидел плотный загорелый мужчина с неестественно блестящими глазами, возможно, от контактных линз. Внезапно он исчез: его кресло разрослось, поручни поднялись вверх и соединились, образовав нечто вроде яйцевидного кокона. Еще несколько человек исчезло в таких же кабинах, похожих на разбухшие саркофаги. Что они там делали? Впрочем, с подобными загадками я сталкивался на каждом шагу и старался не показывать удивления, если они меня непосредственно не касались. Интересно, что к людям, которые пялили на нас глаза, узнав, кто мы такие, я относился довольно безразлично. Их изумление не задевало меня, хотя я сразу понял, что в нем пет ни капли восхищения. Раздражали меня скорее те, кто заботился о нас, сотрудники Адапта. А больше всего, пожалуй, доктор Абс, потому что он обращался со мной, как врач с необычным пациентом, довольно удачно прикидываясь, что имеет дело как раз с вполне нормальным человеком. А когда притворяться становилось невозможно, он острил. Мне надоели его остроты и притворная непосредственность. Любой встречный (так по крайней мере я полагал), если его спросить, признал бы меня или Олафа себе подобным ведь не столько мы сами должны были казаться ненормальными, сколько наше прошлое, действительно необычное. Но доктор Абс, как и все в Адапте, знал, что и сами мы другие. В нашем отличии от других не было ничего почетного, оно было лишь помехой для понимания, для самого простого разговора, да что там мы даже не знали, как теперь открывать двери, поскольку дверные ручки исчезли лет пятьдесятшестьдесят назад. Старт наступил неожиданно. Тяжесть не изменилась ни на йоту, ни один звук не проник в герметическую кабину, тени все так же мерно плыли по потолку может быть, многолетний опыт, выработавшийся инстинкт внезапно подсказали мне, что мы находимся в пространстве, и это была уверенность, а не предположение. Впрочем, меня занимало совсем другое. Уж слишком легко мне удалось настоять на своем. Даже Освамм не очень-то возражал. Доводы, которые выдвигали они с Абсом, были неубедительны, я сам мог бы придумать лучше. Они настаивали только на одном что каждый из нас должен лететь отдельно. Они даже не ставили мне в вину то, что я подбил на эту поездку и Олафа (если б не я, он, наверно, согласился бы остаться у них подольше). Это наводило на размышления. Я ожидал осложнений, чего-то такого, что в самую последнюю минуту сведет весь мой план на нет, но ничего не произошло и вот я лечу. Это последнее путешествие должно закончиться через пятнадцать минут. Совершенно ясно: то, что я задумал, и то, как я добивался досрочного отъезда, не было для них неожиданностью. Подобные реакции, по-видимому, были внесены в их каталог, значились в их психотехнических таблицах под соответствующими номерами, как стереотип поведения, свойственный именно таким молодчикам, как я. Они позволили мне лететь почему? Опыт подсказывал им, что я все равно не справлюсь сам? Ведь вся эта "самостоятельная" эскапада сводилась к перелету из одного порта в другой, где меня должен был ждать кто-то из земного Адапта, и все, что мне предстояло самому совершить, это отыскать нужного человека в условленном месте. Что-то случилось. Послышались возбужденные голоса. Я выглянул из своего кресла. Женщина, сидевшая через несколько рядов от меня, оттолкнула стюардессу, и та, словно от этого не такого уж сильного толчка, пятилась по проходу медленно, как-то автоматически, а женщина повторяла: "Я не позволю! Пусть это ко мне не прикасается!" Лица женщины я не видел. Сопровождавший ее мужчина, схватив ее за руку, что-то успокаивающе говорил ей. Что означала эта сцена? Остальные пассажиры просто не обратили на нее внимания. В который уж раз меня охватило ощущение неимоверной отчужденности. Я поглядел снизу вверх на стюардессу. Она остановилась как раз возле моего кресла все с той же неизменной улыбкой. Девушка улыбалась искренне, явно не ради того, чтобы скрыть огорчение. Она не притворялась спокойной она действительно была спокойна. -- Выпьете что-нибудь? Прум, экстран, морр, сидр? Мелодичный голос. Я отрицательно покачал головой. Мне хотелось сказать ей что-нибудь приятное, но я решился всего лишь на банальный вопрос: -- Когда посадка? -- Через шесть минут. Съедите что-нибудь? Вам незачем спешить. Можно остаться и после посадки. -- Нет, благодарю. -- Она отошла. В воздухе, прямо перед глазами, на фоне спинки стоявшего передо мной кресла, возникла словно вырисованная быстрым движением кончика тлеющей папиросы надпись: СТРАТО. Я наклонился, чтобы посмотреть, откуда она взялась, и вздрогнул спинка моего кресла последовала за мной и мягко обняла меня. Я уже знал, что мебель предупредительно реагирует на любое изменение позы, но все время забывал об этом. Это было неприятно словно кто-то следил зa каждым твоим движением. Я попробовал вернуться в прежнее положение, но, видно, сделал это слишком энергично. Кресло неправильно поняло мои намерения и раскрылось, совсем как кровать. Я вскочил. Что за идиотизм! Больше самообладания. Наконец уселся снова. Буквы розового СТРАТО задрожали и превратились в другие: ТЕРМИНАЛ. Никаких толчков, предупреждений, свиста. Раздался далекий звук, напоминавший рожок почтальона, четыре овальные двери в конце проходов между сиденьями широко распахнулись, и внутрь ворвался глухой, всепроникающий шум, словно гул моря. Голоса пассажиров бесследно потонули в этом шуме. Я продолжал сидеть, а люди выходили. Один за другим мелькали на фоне льющегося снаружи света их силуэты то зеленым, то пурпурным, то лиловым настоящий балмаскарад. Наконец все вышли. Я встал. Машинально одернул свитер. Как-то нелепо так идти, с пустыми руками. Из дверей тянул прохладный ветерок. Я обернулся. Стюардесса стояла у перегородки, не касаясь ее спиной. На лице ее застыла все та же радушная улыбка, обращенная теперь к пустым рядам кресел, которые начали неторопливо свертываться, складываться, словно какие-то мясистые цветы, одни быстрее, другие чуть медленней и это было единственным, что двигалось под аккомпанемент плывущего через овальные двери всепроникающего протяжного шума, напоминавшего о море. "Не хочу, чтобы это ко мне прикасалось!" В улыбке вдруг почудилось мне что-то зловещее. Подойдя к двери, я сказал: -- До свидания... -- Всегда к вашим услугам. Значение этих слов, таких странных в устах молодой красивой женщины, я осознал не сразу, лишь когда отвернулся и стоял в дверях. Я хотел поставить ногу на ступеньку, но трапа не было. Между металлическим корпусом и краем перрона зияла щель метровой ширины. Теряя равновесие от неожиданности, неловко прыгнул и уже в воздухе почувствовал, как меня будто подхватывает снизу какой-то невидимый поток, переносит через пустоту и мягко опускает на белую, упруго прогнувшуюся поверхность. Наверно, в полете у меня был довольно нелепый вид, потому что я поймал несколько веселых взглядов, брошенных в мою сторону. Я быстро повернулся и пошел вдоль перрона. Ракета, на которой я прилетел, лежала глубоко в выемке, отделенной от края перрона ничем не огороженной пустотой. Я словно невзначай приблизился к этой пустоте и снова почувствовал, как что-то упруго оттолкнуло меня от белого края. Я хотел было выяснить, где источники этой странной силы, и вдруг словно очнулся ведь это уже Земля. ![[]](/img/w/wladimir_strannoljubskij/lem/lvzl1003.jpg)
Поток людей увлек меня, я брел в толпе, меня толкали со всех сторон. Я даже не разглядел как следует, до чего громаден этот зал. Впрочем, был ли это один зал? Никаких стен, белый, сверкающий, взметенный ввысь размах неимоверных крыльев, между ними колонны, созданные головокружительным смерчем. Что это? Стремящиеся вверх гигантские фонтаны какой-то густой жидкости, просвеченные изнутри разноцветными прожекторами? Нет. Вертикальные стеклянные тоннели, по которым проносились вверх вереницы расплывавшихся в стремительном полете машин? Я уже ничего не понимал. Меня непрерывно толкали, поворачивали, я пытался выбраться из этой муравьиной толчеи на свободное место, но свободного места не было. Я был на голову выше всех и потому смог увидеть, что опустевшая ракета удаляется, впрочем, нет, это мы уплывали от нее вместе с перроном. Вверху сверкали огни, в их блеске толпа искрилась и переливалась. Теперь площадка, на которой мы сгрудились, начала подниматься, и я увидел далеко внизу двойные белые полосы, забитые людьми, и черные зияющие щели вдоль беспомощно застывших огромных корпусов ракет, подобных нашей. Их здесь были десятки. Движущийся перрон поворачивал, ускорял бег, подымался к верхним ярусам. По ним, как по немыслимым, лишенным всякой опоры виадукам, шелестя, взвивая внезапными вихрями волосы людей, проносились округлые, дрожащие от скорости тени, со слившимися в сплошную светящуюся ленту сигнальными огнями; потом несущая нас поверхность начала разветвляться, делиться вдоль невидимых швов, моя полоса проносилась сквозь помещения, заполненные сидевшими и стоявшими людьми, их окружало множество мелких искорок, будто они жгли разноцветные бенгальские огни. Я не знал, куда смотреть. Передо мной стоял мужчина в чем-то пушистом, как мех, переливавшемся металлическим блеском. Он держал под руку женщину в пурпуре. Ее платье было усеяно огромными, как на павлиньих перьях, глазами, и эти глаза мигали. Нет, мне не показалось; глаза ее платья в самом деле открывались и закрывались. Полоса, на которой я стоял за этой парой среди еще десятка людей, все набирала скорость. За дымчато-бурыми, стекловидными плоскостями то и дело возникали разноцветно освещенные проходы с прозрачными потолками, по которым неустанно шли сотни ног на следующем, верхнем этаже; проникающий всюду шум то растекался, то сливался вновь, когда очередной тоннель этой неведомо куда ведущей дороги сдавливал тысячи людских голосов и непонятных лишь мне одному звуков; в глубине пространство прорезали мчащиеся полосы каких-то непонятных машин быть может, летающих, иногда они шли наискось вверх или устремлялись вниз, ввинчиваясь в пространство. Но нигде не видно было ни рельсов, ни несущих опор воздушной дороги. Когда же эти вихри останавливали на миг свой стремительный бег, из-за них появлялись огромные величественно медлительные платформы, заполненные людьми, словно парящие пристани, которые двигались в разных направлениях, расходились, поднимались и, казалось, пронизывали друг друга, но это было уже обманом зрения. Трудно было остановить взгляд на чем-нибудь неподвижном, потому что все кругом, казалось, состояло именно из движения, и даже то, что я сначала принял за крыловидный свод, оказалось лишь нависавшими друг над другом ярусами, над которыми теперь возникли другие, еще более высокие. Внезапно просочившись сквозь стеклистые своды, сквозь эти загадочные колонны, отразившись от серебристо белых плоскостей, заполыхало на всех изгибах пространства, на всех проходах, на лицах людей тяжелое, пурпурное зарево, как будто где-то далеко, в самом сердце гигантского здания запылал атомный огонь. Зеленый свет пляшущих без устали неонов помутнел, молочные параболические контрфорсы порозовели. Этот багрянец, внезапно заполнивший все вокруг, казалось, предвещал катастрофу, но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Я даже не заметил, когда он исчез. У краев нашей полосы то и дело появлялись вращающиеся зеленые кольца, словно повисшие в воздухе неоновые обручи; тогда часть людей переходила на подплывающие ответвления другой полосы или лестницы; я заметил, что сквозь зеленые кольца этого огня можно было проходить свободно, словно они были нематериальны. Некоторое время я безвольно позволял белой дорожке уносить меня все дальше, как вдруг мне пришло в голову, что я, быть может, уже за пределами порта, и этот неправдоподобный пейзаж изогнутого, словно рвущегося в полет стекла и есть уже город, а тот город, который я когдато покинул, существует лишь в моей памяти. ![[]](/img/w/wladimir_strannoljubskij/lem/lvzl1010.jpg)
Простите, я коснулся плеча стоявшего впереди мужчины, где мы находимся? Мужчина и его спутница посмотрели на меня. Их поднятые ко мне лица выразили удивление. Я все же надеялся, что причиной тому только мой рост. -- На полидуке, -- сказал мужчина. -- Какой у вас стык? Я не понял ни слова. -- Мы... еще в порту? -- Конечно, -- сказал он, помедлив. -- А где... Внешний Круг? -- Вы его уже пропустили. Придется дублить. -- Лучше раст из Мерида, -- вмешалась женщина. Казалось, все глаза ее платья подозрительно и удивленно вглядывались в меня. -- Раст? повторил я беспомощно. -- Вон там... -- она показала туда, где сквозь подплывающий зеленый круг просвечивало пустое возвышение с серебряно-черными полосатыми боками, похожее на корпус странно размалеванной, лежащей на боку ракеты. Я поблагодарил и сошел с дорожки, но, видимо, не там, где полагалось, потому что резкий толчок едва не опрокинул меня. Мне удалось удержаться на ногах, но меня так закрутило, что я не знал, куда идти. Пока я размышлял, как быть, место моей пересадки далеко отошло от серебряно-черного возвышения, на которое показывала женщина, и я уже не мог его отыскать. Большинство людей, стоявших рядом, переходило на наклонную полосу, устремлявшуюся вверх, и я сделал то же самое. Уже став на полосу, я увидел огромную, неподвижно пылавшую в воздухе надпись: ДУК ЦЕНТР буквы были такие громадные, что начало и конец надписи не умещались в поле зрения. Меня бесшумно вынесло на гигантский, чуть ли не километровый перрон, от которого как раз отделялся веретенообразный корабль. По мере того как он поднимался, становилось все виднее его продырявленное освещенными окнами днище. Кто знает, может быть, именно этот корабль-левиафан и был перроном, а я находился на "расте" даже спросить было некого, вокруг было безлюдно. Видно, я попал не туда. Часть моего "перрона" была застроена какими-то сплюснутыми помещениями без передних стен. Подойдя, я увидел что-то вроде низких, слабо освещенных боксов, в которых рядами стояли чернью машины. Я принял их за автомобили. Не успел я отойти, как две ближайшие ко мне машины выдвинулись из своих ниш и обошли меня, с места развивая огромную скорость, и прежде чем они исчезли вдали на параболических склонах, я увидел, что у них нет ни колес, ни окон, ни дверей. Они казались обтекаемыми, как огромные черные капли. "Автомобили или нет во всяком случае, какая-то стоянка, подумал я. Может быть, как раз тех самых "растов"? По-видимому, лучше всего было обождать, пока не появится кто-нибудь, и отправиться вместе с ним или по крайней море что-нибудь разузнать. Однако мой перрон, слегка приподнятый, словно крыло невиданного самолета, продолжал оставаться безлюдным, и лишь черные машины одна за другой вырывались из своих ниш и уносились в одну и ту же сторону. Я подошел к самому краю перрона, и упругая невидимая сила снова оттолкнула меня. Перрон и впрямь висел в воздухе, ни на что не опираясь. Подняв голову, я увидел множество таких же перронов, так же неподвижно парящих в пространстве, слабо освещенных; на других перронах, к которым швартовались ракеты, сверкали большие сигнальные лампы. Но нет, это были не ракеты. Это даже не походило на тот корабль, который доставил меня сюда с Луны. Я стоял долго, пока не увидел, как на фоне каких-то следующих залов (впрочем, не могу с уверенностью сказать, что это были не зеркальные отражения того зала, в котором я стоял) мерно поплыли в воздухе огненные буквы СОАМО СОАМО СОАМО. Перерыв, голубоватая вспышка и потом НЕОНАКС НЕОНАКС НЕОНАКС быть может, названия станций или реклама продуктов. Мне это ни о чем не говорило. "Сейчас как раз самое время. Мне давно пора найти этого парня из Адапта", подумал я, повернулся на каблуках, отыскал идущую в обратную сторону дорожку и спустился вниз. Я оказался совсем не на том ярусе и даже не в том зале, где был раньше, здесь не было тех огромных колонн. Впрочем, может быть, эти колонны куда-нибудь исчезли, мне уже все казалось возможным. Я очутился среди целой рощи фонтанов, потом попал в бело-розовый зал, где толпились женщины. Проходя мимо одного из фонтанов, я от нечего делать сунул руку в его подсвеченную струю, может, потому, что приятно было встретить что-нибудь хоть немного знакомое. Но рука не ощутила ничего, эти фонтаны были без воды. Потом мне почудился запах цветов. Я поднял руку она пахла, как тысяча кусков туалетного мыла сразу. Я невольно начал вытирать ее о брюки. Это было как раз перед залом, где находились женщины, одни только женщины. На коридор перед туалетом это не походило. Впрочем, разве тут разберешься? Спрашивать не хотелось. Я повернул обратно. Какой-то юноша, одетый так, словно на нем застыла растекшаяся по телу ртуть, раздувшаяся буфами или вспенившаяся? на плечах и в обтяжку на бедрах, разговаривал со светловолосой девушкой, прислонившейся к чаше фонтана. Девушка в светлом платье, совершенно обычном, что приободрило меня держала в руках букет бледно-розовых цветов и, пряча в них лицо, глазами улыбалась юноше. Но, остановившись возле них и уже открыв рот, я увидел вдруг, что она ест эти цветы и на миг у меня перехватило дыхание. Она спокойно жевала нежные лепестки. Ее взгляд скользнул по мне. Застыл. Но к этому я уже привык. Я спросил, где находится Внешний Круг. Мне показалось, что юношу неприятно удивило или даже разозлило, что кто-то осмелился прервать их беседу. Видно, я совершил бестактность. Он посмотрел вверх, потом опустил глаза, словно думая, что разгадка моего роста в каких-то ходулях. И даже не ответил. О, вон там, воскликнула девушка, раст на вук, ваш раст, быстрее, вы еще успеете! Я пустился бегом в указанную сторону, сам не зная куда, ведь я по-прежнему понятия не имел, как выглядит этот проклятый раст. Пробежав шагов десять, я увидел серебристую воронку, спускающуюся сверху, основание одной из тех огромных колонн, которые так поразили меня, неужели это были летающие колонны? люди спешили туда со всех сторон, и внезапно я столкнулся с кем-то на бегу. Я даже не покачнулся, лишь остановился как вкопанный, но тот, приземистый толстяк в оранжевом костюме, упал, и с ним произошло нечто невероятное: его костюм завял на глазах, съежился, как проколотый воздушный шарик. Я стоял над ним, совершенно ошеломленный, не в силах даже пробормотать извинения. Он поднялся, посмотрел на меня исподлобья, но ничего не сказал, отвернулся и отошел широким шагом, манипулируя руками перед грудью, костюм его снова как бы наполнился и стал красивым. На том месте, которое указывала девушка, уже никого не было. После этого приключения я махнул рукой на поиски всех этих растов, дуков, стыков, Внешнего Круга и решил выбраться из порта. Приобретенный опыт не располагал к разговорам с прохожими, поэтому я поехал наугад вверх, вслед за голубой, наискось проведенной стрелой, без особых волнений пронизав собственным телом одну за другой две пламенеющие в воздухе надписи: ВНУТРЕННИЕ ЛИНИИ. Я попал на эскалатор, довольно многолюдный. Следующий этаж был выдержан в приглушенных бронзовых тонах с прожилками в виде золотых восклицательных знаков. Плавные переходы потолков и вогнутых стен. Коридоры, лишенные сводов, словно тонущие наверху в светящемся пухе. Стало казаться, что близко жилые помещения, все окружающее чем-то напоминало систему гигантских залов какой-нибудь гостиницы: оконца, никелированные трубы вдоль стен, ниши, где сидели какие-то чиновники, не то обменные пункты, не то почта, не знаю, я шел дальше. Теперь я был почти уверен, что эта дорога не выведет меня к выходу и что, судя по длительности подъема, я нахожусь уже в надземной части порта. Несмотря на это, я продолжал идти в том же направлении. Неожиданное безлюдье, малиновые плиты с искрящимися звездочками, шеренги дверей. Ближайшая дверь была приоткрыта. Я заглянул. Одновременно со мной с противоположной стороны заглянул какой-то огромный плечистый человек я сам в зеркале во всю стену. Я распахнул дверь. Фарфор, серебристые трубки, никелировка. Туалет. Хотелось смеяться, но в общем я чувствовал себя довольно глупо. Я быстро повернул обратно другой коридор, молочно-белые дорожки, плывущие вниз. Поручни эскалатора мягкие, теплые, я не считал уходящие этажи, людей становилось все больше, они останавливались возле покрытых эмалью ящиков, выраставших из стен на каждом шагу прикосновение пальца, что-то падало в руку, они прятали это в карман и шли дальше. Не знаю зачем я сделал точно то же, что шедший впереди человек в просторном фиолетовом одеянии: нажал кончиком пальца на едва заметную вогнутость клавиша, прямо в подставленную руку упала цветная, теплая полупрозрачная трубка. Я потряс ее, поднес к глазам какие-то пилюли? Нет. Пробка? Нет, никакой пробки не было. Зачем это? Что с этим делали другие? Просто прятали в карман. На автомате надпись: ЛАРГАН. Я стоял, меня толкали. Внезапно я показался сам себе обезьяной, которой протянули авторучку или зажигалку; на мгновение мною овладело слепое бешенство; я сжал зубы, сощурил глаза и, чуть сгорбившись, включился в текущий мимо поток. Коридор расширялся, это уже был зал. Огненные буквы: РЕАЛ AMMO РЕАЛ AMMO. Сквозь суетящуюся толпу, поверх голов, я увидел издали окно. Первое окно. Огромное, панорамное. Словно вся глубина ночи раскинулась на одной плоскости. Из светящегося тумана по самый горизонт разноцветные галактики площадей, скопления спиральных огней, дрожащее зарево над небоскребами; на улицах копошение, извилистое ползание светящихся бусинок, и над всем по вертикалям хаотическая пляска неонов, огненные плюмажи и молнии, кольца, самолеты и бутыли, багровые одуванчики сигнальных огней на причальных мачтах, вспыхивающие на миг солнца и выпрыгивающие с механической стремительностью огненные жилы реклам. Я застыл и смотрел, слыша за собой мерное шарканье сотен ног. Внезапно город исчез и появилось огромное трехметровое лицо. -- Мы передавали монтаж хроники семидесятых годов из цикла "Виды старых столиц". Сейчас Транстель начинает передачу из школы космолитов... Я почти бежал. Это было не окно, а какой-то огромный телевизор. Я ускорял шаги. Немного вспотел. Вниз! Скорее вниз! Золотые квадраты света. Внутри толпы людей, пена в стаканах, почти черная жидкость, нет, нет, не пиво, поблескивает ядовито-зелёным, и молодежь, парни и девушки, в обнимку, вшестером, по восемь сразу, перегораживая коридор, шли на меня, им приходилось разнимать руки, чтобы меня пропустить. Меня тряхнуло. Оказывается, сам того не заметив, я вступил на движущуюся дорожку. Совсем близко мелькнули удивленные глаза красивая темноволосая девушка в чем-то блестевшем, как фосфоресцирующий металл. Ткань облегала ее, она казалась нагой. Лица белые, желтые, несколько высоченных черных парней, но я был по-прежнему выше всех. Передо мной расступались. Вверху, за выпуклыми стеклами, мелькали неясные тени, играли невидимые оркестры, а здесь продолжался этот странный променад. В темных коридорах безликие фигуры женщин, светились только припорошенные блестками волосы да пух, прикрывавший их плечи, только шеи белели в нем, как странные белые стебли. Фосфоресцирующая пудра?.. Узкий проход вел в галерею каких-то гротескных подвижных, даже вертлявых статуй; коридор широкий, как улица, с приподнятыми краями, гудел от смеха. Что их так веселило? Эти статуи? Огромные фигуры в лучах протекторов источали густое, как сироп, медовое, рубиновое, насыщенное цветом сияние. Я шел, сощурив глаза. Крутой зеленый коридор, павильончики, пагоды с переброшенными к ним мостиками, полным-полно ресторанчиков, острый, назойливый запах жареного, бренчание стекла, повторяющиеся металлические звуки. Толпа, втянувшая меня сюда, смешалась с другой толпой, потом стало просторней, все садились в открытый настежь вагон, нет, он просто был прозрачный, словно отлитый из стекла, даже сиденья стеклянные и всё-таки мягкие. Незаметно для себя я очутился внутри него: мы уже мчались. Вагон летел, люди перекрикивали громкоговоритель, повторявший: "Меридионал, Меридионал, стыки на Спиро, Атэйл, Блэкк, Фросом". Весь вагон словно таял, пронизанный светом; за стенами проносились огненные цветные полосы, параболические арки, белые перроны. "Фортеран, Фортеран, стыки Гале, стыки внешних растов, Макра", бормотал микрофон. Вагон останавливался и мчался дальше. Удивительное дело: ни торможение, ни ускорение не ощущались, словно инерция была уничтожена. Как же так? Я проверил это на трех очередных остановках, чуть подгибая ноги в коленях. На поворотах тоже ничего. Люди выходили, входили, на передней площадке появилась женщина с собакой, в жизни такого пса не видел. Он был огромный, с шарообразной головой, очень некрасивый, в его светло карих спокойных глазах отражались уносящиеся назад микроскопические гирлянды огней. РАМБРЕНТ, РАМБРЕНТ. Замелькали синеватые и белесые светящиеся трубки, лестницы, отливающие кристаллическим блеском, черные фонтаны, постепенно блеск застывал, каменея, вагон остановился. Я вышел и растерялся. Над амфитеатром перрона вздымалось многоэтажное знакомое сооружение все тот же космопорт, другое место того же самого гигантского зала, разделенного крыльями белых плоскостей. Я подошел к краю геометрически правильной чаши перрона, вагон уже отошел, и я испытал очередное потрясение: я находился не внизу, как полагал, а, наоборот, очень высоко, этажах в сорока над проносившимися в бездне лентами дорожек, над серебряными палубами мерно двигающихся перронов. В их расщелины вползали продолговатые молчаливые громады, и шеренги люков выбрасывали наружу людей, как будто эти чудовища, эти хромированные рыбины откладывали на перрон на равных расстояниях кучки золотой и черной икры. И над всем этим, далеко, как сквозь дымку, я различал ползущие по невидимой строчке сверкающие буквы: ГЛЕНИАНА РУН, ВОЗВРАЩАЮЩАЯСЯ СЕГОДНЯ СО СЪЕМОЗАПИСИ МИМОРФИЧЕСКОГО РЕАЛА, ВОЗДАСТ В ОРАТОРИИ ЧЕСТЬ ПАМЯТИ РАППЕРА КЕРКСА ПОЛИТРЫ. ГАЗЕТА "ТЕРМИНАЛ" СООБЩАЕТ: СЕГОДНЯ В АММОНЛИ ПЕТИФАРГ ДОБИЛСЯ СИСТОЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭНЗОМА. ГОЛОС ЗНАМЕНИТОГО ГРАВИСТА МЫ БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ В ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЧАСОВ. РЕКОРД АРРАКЕРА. АРРАКЕР ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ ЗВАНИЕ ПЕРВОГО ОБЛИТИСТА СЕЗОНА НА ТРАНСВААЛЬСКОМ СТАДИОНЕ. Я отошел. Значит, даже счет времени изменился. Огромные буквы, как шеренги пылающих канатоходцев, плыли над морем голов, в их свете женские одежды внезапно вспыхивали холодным металлическим блеском. Я шел, ничего не замечая, а во мне все звучали слова: "Значит, даже счет времени изменился". Это добило меня. Хотелось только одного: выйти отсюда, выбраться из этого дьявольского космопорта, очутиться под открытым небом, на воле, увидеть звезды, ощутить ветер. Меня привлекла аллея продолговатых огней; замкнутый в прозрачном алебастре потолка острый язычок пламени выписывал какие-то слова: ТЕЛЕТРАНС ТЕЛЕПОРТ ТЕЛЕТОН; стрельчатая арка входа неимоверная, лишенная опор арка, словно перевернутый нос ракеты, вела в зал, крытый окаменевшим золотым пламенем. В нишах стен сотни кабинок, люди вбегали в них, поспешно выбегали, швыряли на пол обрывки лент, нет, не телеграфных, каких-то иных, с выдавленными на них бугорками, другие ступали по этим обрывкам. Я попробовал выйти, по ошибке забрел в темную нишу, не успел отступить, что-то забренчало, вспышка, будто фотолампа, и из щели, окаймленной металлом, как из почтового ящика, выпал сложенный вдвое листок блестящей бумаги. Я взял его, развернул, из него выскочила человеческая голова с полураскрытыми, слегка искривленными тонкими губами, уставилась на меня, сощурив глаза: это был я сам. Я снова сложил листок, и объемное видение исчезло. Я осторожно начал раскрывать его ничего; шире изображение появилось опять, как будто выпрыгнуло из ниоткуда, отдельно от тела, висящая над листком голова с глуповатым выражением лица. Я всматривался в нее что это такое, объемная фотография? Потом сунул листок в карман и вышел. Золотой ад, огненная лава потолка, иллюзорная, н пышущая настоящим пожаром, казалось, низвергались на головы толпы, но никто не смотрел вверх, все хлопотливо бежали из одних кабинок в другие, в глубине прыгали зеленые буквы, колонки цифр сползали по узким экранам; еще кабины, вместо дверей жалюзи, стремительно свертывающиеся при чьём-либо приближении, наконец-то я нашел выход. Изогнутый коридор; наклонный, как в театре, пол, па стенах стилизованные букеты раковин, вверху стремительно проносились слова: ИНФОР ИНФОР ИНФОР, бесконечно. Впервые я увидел ИНФОР на Луне и принял его за искусственный цветок. Я приблизил лицо к салатовой чаше, она мгновенно, еще ничего от меня не услышав, застыла в ожидании. -- Как мне выйти? -- не очень-то вразумительно спросил я. -- Куда? -- тотчас откликнулся теплый альт. -- В город. -- В какой район? -- Безразлично. -- На какой уровень? -- Все равно, я хочу выйти из порта! -- Меридионал, расты: сто шесть, сто семнадцать, ноль восемь, ноль два. Тридукт, уровень АФ, АЖ, АН, уровень окружных митов, двенадцать и шестнадцать, уровень надир в любом южном направлении. Центральный уровень глидеры, красный местный, белый дальний А, Б и В. Уровень ульдеров прямого сообщения, все шкалы с третьей и выше... мелодично перечислял женский голос. Мне хотелось вырвать из стены этот микрофон, так заботливо склонившийся ко мне. Я отошел. "Идиот! Идиот!" отзывался во мне каждый шаг. ЭКС ЭКС ЭКС ЭКС, твердила проползавшая вверху, обрамленная лимонно-жёлтым туманом надпись. Может быть, "Эксит"? "Выход"? Огромная надпись: ЭКСОТАЛ. Стремительно налетел поток теплого воздуха, даже штанины захлопали. Я оказался под открытым небом. Но мрак ночи сразу же отпрянул, оттесненный бесчисленными огнями. Огромный ресторан столики, сверкавшие всеми цветами радуги; над ними освещенные снизу, чуть жутковато, лица в глубоких тенях. Низкие кресла, черная жидкость с зеленой пеной, лампионы, сыплющие мелкие искры, нет, вроде светлячков волны пылающей мошкары. Хаос огней затмевал звезды. Подняв голову, я увидел лишь черную пустоту над собой. И всё-таки удивительно, в эту минуту ее слепое присутствие приободрило меня. Я остановился, почувствовав запах духов, резкий и в то же время нежный. Мимо скользнула пара. Плечи и грудь девушки тонули в пушистом облаке, она укрылась в объятиях мужчины: они танцевали. "Еще танцуют, подумал я. И то хорошо". Пара сделала лишь несколько шагов, тусклый, отливающий ртутью круг поднял танцующих, их тёмно-красные тени мерно шевелились под его огромной, медленно вращавшейся плитой, она была без опор, даже без оси, просто кружилась в воздухе под звуки музыки. Я побрел среди столиков. Мягкий пластик под ногами оборвался, упираясь в шершавую скалу. Сквозь световой занавес я вошел внутрь и оказался в скалистом гроте. Словно множество готических нефов, сооруженных из сталактитов, жилистые натеки сверкающих камней охватывали выходы из пещеры. Там, свесив ноги с обрыва, сидели люди. Возле их колен покачивались слабые огоньки. Внизу простиралось невозмутимое черное зеркало озера, отражая нагромождения скал. На сколоченных кое-как плотиках тоже сидели люди, все лица были обращены в одну сторону. Я спустился к самой воде и увидел на песке, по ту сторону, танцовщицу. Она казалась нагой, но белизна ее тела была неестественной. Мелкими неуверенными шажками она подошла к воде, отразилась в ней, внезапно развела руки, поклонилась, это был конец, но никто не аплодировал, она стояла мгновение неподвижно, потом медленно пошла вдоль воды по неровной линии берега. Она была шагах в тридцати от меня, как вдруг с ней что-то произошло. Мгновение назад я еще видел ее усталое, улыбающееся лицо, и вдруг как будто что-то заслонило ее, силуэт задрожал и исчез. -- Не угодно ли плаву? -- раздался сзади предупредительный голос. Я обернулся никого, только круглый столик, смешно перебиравший согнутыми ножками; он переминался, бокалы с шипучкой, стоявшие на боковых подносиках, дрожали одна лапка услужливо подсовывала мне бокал, другая уже тянулась за тарелкой, похожей на маленькую, вогнутую палитру с дырочкой для пальца сбоку. Автоматический столик, за стеклом центрального оконца я видел тлеющий огонек его транзисторного сердца. Я увернулся от этих услужливо протянутых ко мне членистых ручек, от лакомств и быстро вышел из искусственного грота, стиснув зубы, словно мне нанесли непонятное оскорбление. Прошел через всю террасу мимо причудливо расставленных столиков, сквозь аллеи лампионов, обсыпаемый невесомой пылью распадающихся, догорающих в воздухе черных и золотых светлячков. У самого края, выложенного замшелыми камнями, я почувствовал, наконец, настоящий, холодный, чистый ветер. Рядом стоял свободный столик. Я уселся за него, не очень удобно, спиной к людям, глядя в ночь. Внизу, неожиданная и бесформенная, простиралась темнота, и только далеко, очень далеко, на самом горизонте тлели слабые, зыбкие огоньки, какие-то неуверенные, словно это и не электричество было, а еще дальше в небо вонзались холодные тонкие шпаги света, не знаю, то ли дома, то ли какие-то колонны, их можно было принять за лучи прожекторов, если б они не были подернуты мелкой сеткой, так выглядел бы вбитый основанием в землю и уходящий в облака стеклянный цилиндр, слой за слоем заполненный выпуклыми и вогнутыми линзами. По-видимому, они были невероятной высоты, вокруг них роились какие-то огоньки, то вспыхивая, то угасая, так что по временам их охватывал слабый оранжевый, а иногда почти белый ореол. И это все, и это был город; я пытался отыскать улицы, угадать их, но мрачная и, казалось, мертвая пустыня внизу простиралась во все стороны, не освещенная ни единым проблеском света. -- Коль? -- услышал я слово, произнесенное, видно, уже не в первый раз, но лишь теперь понял, что обращались ко мне. Кресло повернулось раньше, чем я. Передо мной стояла девушка лет двадцати, в голубом, плотно облегавшем ее наряде, плечи и грудь тонули в тёмно-синем меху, который книзу становился все прозрачнее, красивое, гибкое тело напоминало статуэтку из дышащей бронзы. Что-то светящееся, большое закрывало мочки ушей; маленький, растерянно улыбающийся рот, крашеные губы, ноздри тоже красные изнутри я уже успел заметить, что именно так красится большинство женщин. Схватившись обеими руками за спинку стоявшего напротив кресла, она воскликнула: -- Что с тобой, коль? Присела. Мне показалось, что она немного пьяна. -- Здесь скучно, -- заговорила она, помолчав. -- Правда? Давай махнем куда-нибудь, коль? -- Я не коль... -- начал было я. Поставив локти на столик, она бесцельно проводила рукой над налитым до половины бокалом, так что кончик золотой цепочки, навернутой на ее пальцы, погрузился в жидкость. Она качалась и наклонялась все ниже. Я почувствовал ее дыхание. Если она и была пьяна, то вряд ли от вина. -- Как же так? -- сказала она. -- Ты коль. Должен быть. Каждый ведь коль. Махнем, а? -- Хоть бы знать, что это означает? -- Хорошо, -- ответил я. Она встала. Встал и я с этого чертовски низенького кресла. -- Как это у тебя получается? -- спросила она. -- Что? Она посмотрела на мои ноги. -- Я думала, ты стоишь на цыпочках... -- Я молча усмехнулся. Она подошла ко мне, взяла под руку и снова удивилась. -- Что у тебя там такое? -- Где? Здесь? Ничего. -- Поешь, -- сказала она и чуть подтолкнула меня. Мы пошли между столиками, а я размышлял, что бы это значило "поешь" может, "сочиняешь"? Она подвела меня к тёмно-золотой стене, где светился знак, отдаленно напоминавший скрипичный ключ. Стена раздвинулась, когда мы подошли. Я ощутил дуновение горячего воздуха. Узкий серебряный эскалатор уходил вниз. Мы стояли рядом. Она не доставала мне до плеча. Круглая кошачья головка, черные, с голубым отливом волосы, профиль, быть может, несколько резкий, но красивый. Вот только эти пурпурные ноздри... Она крепко держала меня тоненькой рукой, зеленые ногти глубоко впились в плотную материю свитера. Я невольно усмехнулся, самым краешком рта, припомнив, где побывал этот свитер и как мало общего он имел до сих пор с женскими ногтями. Пройдя под крутым сводом, который, словно дыша, переливался из розового в карминовый, из карминового в розовый цвет, мы вышли на улицу. Точнее, я подумал, что это улица, но темнота над нами действительно таяла с каждым шагом, словно близился стремительный рассвет. Поодаль проплывали продолговатые низкие силуэты, как будто автомобили, но я уже знал, что автомобилей нет. Это, по-видимому, было что-то другое. Будь я один, я отправился бы по этой широкой магистрали, потому что вдали светилась надпись: В ЦЕНТР; только, наверно, это совсем не означало центра города. Впрочем, я все равно разрешил себя вести. Чем бы ни кончилось это приключение, я нашел провожатого, и мне вспомнился теперь уже беззлобно тот горемыка из Адапта, который сейчас, спустя три часа после моего прилета, должно быть, мечется в поисках по этому городу-порту от одного Инфора к другому. Мы миновали несколько почти опустевших ресторанов, прошли мимо витрин, в которых группа манекенов непрерывно повторяла одну и ту же сцену, и я охотно остановился бы поглядеть на них, но девушка шла быстро, постукивая каблучками, и вдруг воскликнула, увидев неоновое лицо с пульсирующим румянцем, которое все время облизывалось комично высунутым языком. -- О, бонсы! Хочешь бонс? -- А ты? -- спросил я. -- Кажется, да. Мы вошли в маленький сверкающий зал. Вместо потолка там тянулись длинные ряды огненных язычков, вроде газовых, сверху хлынул теплый воздух наверное, это и вправду был газ. В стенах виднелись небольшие ниши с пюпитрами; когда мы подошли к одной из них, по обеим сторонам выдвинулись сиденья, будто выросли из стены, сначала неразвернутые, как бутоны, они распластались в воздухе и, прогнувшись, застыли. Мы уселись друг против друга, девушка ударила двумя пальцами по металлической крышке столика, из стены выпрыгнула никелированная лапка, бросила перед каждым из нас маленькую тарелочку и двумя молниеносными движениями наполнила обе тарелочки белесоватой массой, которая тут же начала бронзоветь, вспенилась и застыла; одновременно потемнели и сами тарелочки. Девушка свернула свою тарелочку, как блинчик, и принялась есть. -- О, -- проговорила она набитым ртом, -- я и не подозревала, что так проголодалась. Я последовал ее примеру. Боне не походил по вкусу ни на что знакомое. Он хрустел на зубах, как свежевыпеченная булка, но тут же рассыпался и таял во рту; коричневая масса, завернутая в него, была приправлена острыми специями. -- Еще? -- спросил я, когда она справилась со своим бонсом. Она улыбнулась, покачав головой. Проходя к выходу, она сунула по дороге обе руки в маленькую нишу, выложенную кафелем, внутри что-то шумело. Я сделал то же самое. Щекочущий ветерок скользнул по пальцам; руки стали чистыми и сухими. Теперь мы отправились широким эскалатором наверх. Я не знал, вышли ли мы из порта, но предпочитал не спрашивать. Она провела меня в небольшую кабину здесь было темновато, казалось, что над нами проносятся какие-то поезда, так дрожал пол. На мгновение стало совершенно темно, глубоко под нами что-то тяжело вздохнуло, словно металлическое чудовище с шумом выпустило воздух из легких, посветлело, девушка толкнула дверь. Это, пожалуй, была настоящая улица. Мы были на ней совершенно одни. Невысокие подстриженные кусты росли по обеим сторонам тротуара, немного дальше сгрудились плоские черные машины, какой-то человек вышел из темноты, скрылся за одной из них не видно было, как он открывал дверцу, он попросту исчез, а машина рванула с места на такой скорости, что его должно было бы расплющить на сиденье; не видно было домов, одна только гладкая как стол проезжая часть, покрытая полосами матового металла; на перекрестках, паря над мостовой, двигались лезвия оранжевого и красного света, похожие на свет военных прожекторов. -- Куда пойдем? -- спросила девушка. Она все еще держала меня под руку. Замедлила шаги. Полоса красного света скользнула по ее лицу. -- Куда хочешь. -- Тогда идем ко мне. Не стоит брать глидер. Это близко. Мы двинулись прямо. Домов по-прежнему не было видно, а ветер, летящий из темноты, из-за кустов, был такой, словно там расстилалось открытое поле. Возле космопорта, в самом центре? Странно. Ветер нес слабый запах цветов, я жадно вдыхал его. Черемуха? Нет, не черемуха. Потом мы оказались на движущейся дорожке; встали рядом странная пара. Проплывали огни, иногда проскальзывали машины, словно отлитые из цельного куска черного металла, у них не было ни окон, ни колес, ни даже огней, и мчались они словно вслепую, с необычайной скоростью. Те движущиеся лезвия света били из узких вертикальных щелей, расположенных низко над землей. Я никак не мог разобраться, имеют ли они что-нибудь общее с уличным движением и его регулировкой. Время от времени высоко над нами, в невидимом небе, нарастал и затихал тоскливый свист. Девушка внезапно сошла с плывущей полосы только затем, чтобы перейти на другую, которая помчалась круто вверх. Я вдруг взлетел куда-то высоко, воздушная поездка длилась с полминуты и закончилась на площадке, полной слабо пахнущих цветов, мы поднялись на террасу или балкон погруженного в темноту дома будто по приставленному к стене конвейеру. Девушка вошла в глубину этой лоджии, а я, уже свыкшись с темнотой, улавливал в ней огромные силуэты соседних домов, лишенных окон, темных, словно вымерших, потому что не хватало не только света не было слышно ни малейшего звука, кроме резкого шипения, с которым проносились по улице эти черные машины; после неоновой оргии космопорта меня поражало это, по-видимому, нарочитое затемнение и отсутствие неоновых реклам, но размышлять было некогда. "Где ты там? Иди!" донесся до меня шепот. Я видел лишь бледное пятно ее лица. Она поднесла руку к двери, дверь открылась, но это была не комната, пол плавно поплыл вместе с нами. "Тут и шагу самому ступить нельзя, подумал я. Странно, что у них еще сохранились ноги", но это была жалкая ирония, ее порождало мое непрекращающееся ошеломление, ощущение нереальности всего, что происходило со мной вот уже несколько часов. Мы оказались не то в большом зале, не то в коридоре, широком, почти темном, слабо светились только углы стен, покрытые полосами люминесцирующей краски. В самом темном углу девушка снова прикоснулась распластанной ладонью к металлической плитке в двери и вошла первой. Я зажмурился; почти пустая комната была ярко освещена девушка шла к следующей двери; когда я подошел к стене, она внезапно раздвинулась, обнажая полки, заставленные множеством каких-то металлических бутылочек. Это произошло так неожиданно, что я невольно застыл на месте. -- Не пугай мой шкаф, -- сказала девушка из соседней комнаты. Я вошел вслед за ней. Мебель казалась отлитой из стекла: креслица, низенький диванчик, маленькие столики в их полупрозрачном материале медленно кружились рои светлячков, временами рассыпаясь, потом вновь сливаясь в ручейки, которые циркулировали внутри ножек, спинок, сидений, как бледнозеленая, пронизанная розовыми отблесками лучистая кровь. -- Ну что же ты? Она стояла в глубине комнаты. Кресло раскрылось, чтобы услужить мне. Я не выносил этого. Эта стекловидная масса не была стеклом казалось, что садишься на надутую подушку, а посмотрев вниз, можно было неясно увидеть пол сквозь вогнутый толстый лист сиденья. Когда я вошел, мне показалось, что стена напротив двери стеклянная и я вижу сквозь нее следующую комнату, заполненную людьми, словно там шел какой-то прием, но люди эти были неестественно высокими и вдруг я понял, что передо мной телевизионный экран во всю стену. Звук был выключен; теперь, сидя, я видел огромное женское лицо, как будто гигантская негритянка заглядывала в комнату через окно; губы ее шевелились, она что-то говорила, а серьги величиной с тарелку дрожали бриллиантовым блеском. Я устроился поудобнее в кресле. Девушка опуская руку вдоль бедра живот ее и в самом деле казался отлитым из голубого металла, внимательно смотрела на меня. Она уже не казалась пьяной. Может быть, и раньше мне просто померещилось. ![[]](/img/w/wladimir_strannoljubskij/lem/perwaja.jpg)
-- Как тебя зовут? -- спросила она. -- Брегг. Эл Брегг. А тебя? -- Наис. Сколько тебе лет? "Интересные обычаи, подумал я. Ну, что ж, видимо, так принято". -- Сорок, а что? -- Нет, ничего. Я думала, сто. -- Я улыбнулся. -- Пусть будет сто, если ты так хочешь. "Самое смешное, что это правда", -- подумал я. -- Что выпьешь? -- Спасибо, ничего. -- Как хочешь. Она подошла к стене, и там открылось нечто вроде небольшого бара. Она заслонила собой полки. Потом обернулась, неся поднос с бокалами и двумя бутылками. Чуть нажав бутылку, она налила мой бокал до краев жидкость выглядела совершенно как молоко. -- Спасибо, -- сказал я, -- я ничего не хочу. -- Но ведь я тебе ничего и не даю?! -- удивилась она. Увидев, что я снова сделал ошибку, хоть и не понимая, какую именно, я пробурчал что-то себе под нос и взял бокал. Она налила из другой бутылки себе. Жидкость была маслянистая, бесцветная, она слегка пенилась и быстро темнела, будто от соприкосновения с воздухом. Наис села и, касаясь губами края бокала, равнодушно спросила: -- Кто ты? -- Koль, -- ответил я. Поднял бокал, чтобы присмотреться к нему, это молоко было совершенно без запаха. Я не стал к нему притрагиваться. -- Нет, серьезно, -- сказала она. -- Ты думал, я в темную, да? Ничего подобного. Это просто кальс. Была с шестеркой, понимаешь, только вдруг дно стало отвратительным. Особенно-то стараться было не к чему и вообще... я уж собиралась выйти, когда ты подсел. Кое-что я всё-таки улавливал: видимо, я случайно сел за ее столик, пока ее не было; может быть, она танцевала? Я дипломатично промолчал. -- Ты издали выглядел так... -- она не могла найти нужного слова . -- Солидно? -- подсказал я. Ее веки дрогнули. Неужели и на них металлически пленка? Нет, это, наверно, краска. Она подняла голову. -- А что это значит? -- Ну... э... внушающий доверие... -- Ты странно говоришь. Откуда ты? -- Издалека. -- Марс? -- Дальше. -- Летаешь? -- Летал. -- А теперь? -- Вернулся. -- Но будешь снова летать? --Не знаю. Наверное, нет. Разговор как-то угасал казалось, она уже немного раскаивалась в своем легкомысленном приглашении и мне хотелось облегчить ее положение, -- Может, я пойду? -- спросил я, так и не прикоснувшись к напитку. -- Почему? -- удивилась она. -- Мне казалось, что тебе... так будет приятнее. -- Нет, -- сказала она, -- ты думаешь... нет, отчего же... почему ты не пьешь? -- Я пью. Это все же было молоко. В такую пору, при таких обстоятельствах! Я был изумлен, и она, наверное, заметила это. -- Что, не нравится? -- Это... молоко, -- проговорил я. -- Наверно, вид у меня был совершенно идиотский. -- Да нет же! Какое молоко? Это брит... -- Я вздохнул. -- Слушай, Наис... я, пожалуй, пойду. Правда. Так будет лучше, -- Так зачем же ты пил? -- спросила она. Я молча смотрел на нее. Язык не так уж изменился только я все равно ничего не понимал. Ничего. Это они изменились. -- Как хочешь, -- сказала она наконец. -- Я тебя не держу. Но сейчас... она смутилась. Хлебнула свой лимонад -- так я мысленно назвал этот пенистый напиток, а я опять не знал, что сказать. Как это все было сложно! -- Расскажи о себе, предложил я, хочешь? -- Хороню. А потом ты расскажешь? -- Да. -- Я в Кавуте второй год. Последнее время разленилась, не пластовала регулярно и... так как-то. Шестерка у меня неинтересная. По правде говоря, у меня... никого нет. Странно даже... -- Что? -- Что никого нет... Снова сплошной мрак. О ком она говорила? Кого нет? Родителей? Любовника? Знакомых? Абс был прав без восьмимесячной подготовки в Адапте я тут ничего нe пойму. Но сейчас мне тем более не хотелось пристыженным возвращаться за парту.