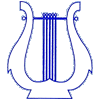 Виталий Ленивов Комментарии |
Э. Бартенев. Лукоморье Ленивова Стихотворение кажется экспериментальным, как экспериментальна, вероятно, жизнь самого Виталия Ленивова - ее нельзя повторить. Он слушает лишь любимые им голоса и ритмы и в творчестве своем не подчиняет их себе, а подчиняется им с тихой благодарностью. Если чужой голос и чужой ритм ему чем-то неприятны, то он их не слышит. Всякий, кто не глух к поэзии, с детства хочет попасть в Лукоморье, и если захочет этого сильно, то на протяжении жизни обязательно не один раз там побывает. Стихотворение Ленивова - прямая туда дорожка. Потому что, прежде чем туда действительно добраться, автор накидал приметы Лукоморья таким образом, что не узнать воспоминаний и мечтаний о столице поэзии или не построить ее в своем воображении внимательный читатель уже не может. Чудесное событие часто сотворяется такой малостью, как синтаксис, его золотыми ключиками, многие из которых нами безвозвратно потеряны. Вот немногие приметы. Пережито или нет кораблекрушение? Пережито. Все погибли, один Ленивов спасся - и мало кем замеченным способом. Вернувшись за забытой туалетной бумагой, он обнаруживает вместо нее 'папир'. Эта находка однако не толкает его назад, в 'сортир' (все привычные отправления стерты из памяти), а лишь позволяет обнаружить ему необычные свойства 'суши': здесь чай в подстаканнике играет с печеньем в звонкие догонялки, и на поверхности чая сами собой ткутся вполне волшебные строчки. Суша, на которую выбросился Ленивов, - штормящая и движущаяся, здесь шумит торговля, но бескорыстная, ждущая чуда, но не монеты. Все в ней участвуют. Здесь чудо меняется на приключение. Но Ленивов ничему не удивляется. Чем ближе приближаешься к Лукоморью, тем оно вероятней. Так и внутри сна не думаешь, что видишь его. Другой закон. (С этим законом автор дружен и справляется с ним одним пятистишием.) Ленивов целомудренно оберегает читателя от своих прозрений и называет 'скупыми развлечениями' открытия необыкновенной важности: тут мирно соседствуют такие огромности, такие необозримости, которые в обычной жизни едва ли мыслимы. Ночь огромна, День велик, телеграфные столбы, по старинке теряя твердую согласную, высятся колоннадами; по листку бумаги можно прогнать целое стадо овец. Мы у себя смеемся и киваем, когда слышим, что нельзя объять необъятное, но там, где путешествует Ленивов, даже 'степь', даже 'пространство' можно гладить ладонью, потому что у них есть перила. Он немного жалеет то, что оставляет: 'новосёла', 'микрорайон', 'лифт'... Он их жалеет даже больше, чем 'ощущение покоя' и потерю родного 'края', и поэтому за пегого пса, не знающего такой жалости, искренне радуется. (Этот удивительный пес обладает одновременно движением и неподвижностью, как сама литература.) А почему так много 'краев'? Вовсе не потому, что у автора с ними тайные счеты. Просто Лукоморье, с попустительства Ленивова и к радости бегущего за ним 'краем моря' читателя, так эти 'края' множит, что всех их тайных значений уже не перечесть. (По крайней мере, это тема отдельного выступления.) Край этот хочется и загладить, как вину, и разглядеть как следует, и заглянуть за него нельзя, или не хочется, потому что дальше - конец, и строка обрывается, 'пропалывается', и 'гурт' строк, может быть, обречен на бойню... Ай, да что говорить, надо читать. Читать, чтобы обнаружить, что география Лукоморья вертикальна, а буковка 'т', когда Ленивов ею орудует, служит такой тишине, которая тише самой себя. И слеза крепко, как вино, ударяет в финале, когда приходится расставаться с 'Лукоморьем'... Иноземец Сигизмунд Герберштейн в 'Записках о Московии' (1549) свое Лукоморье рисует так: '...Из лукоморских гор вытекает река, за которою, по рассказам, живут люди чудесного вида: у одних, как у диких зверей, все тело поросло волосами, у других собачьи головы, у иных совершенно нет шеи, на месте головы грудь, нет ног, а длинные руки. Есть и в реке Тахнине одна рыба с головою, глазами, носом, ртом, руками, ногами и пр. - по виду совершенный человек, однако без всякого голоса, она, как и другие рыбы, доставляет приятную пищу... Сказывают, что с людьми Лукомории происходит нечто удивительное и невероятное: как носится слух, они каждый год умирают, именно 27-го ноября, когда у русских празднуется память святого Георгия, и потом оживают, как лягушки, на следующую весну, большей частью около 24-го апреля'. Не знаю, какое отношение имеют к Ленивову приведенные даты, может быть, никакого не имеют, потому что его Лукоморье лежит далеко на юге, тогда как историческое располагали на севере, в тундрах то ли полярного Приуралья, то ли Ямала. Когда потерянный Ленивовым край обретается, у него оказываются очертания черноморского кафе, и, оказывается, нас там давно ждут, и ничего страшного с нами не произойдет.
|

Визитки автора: